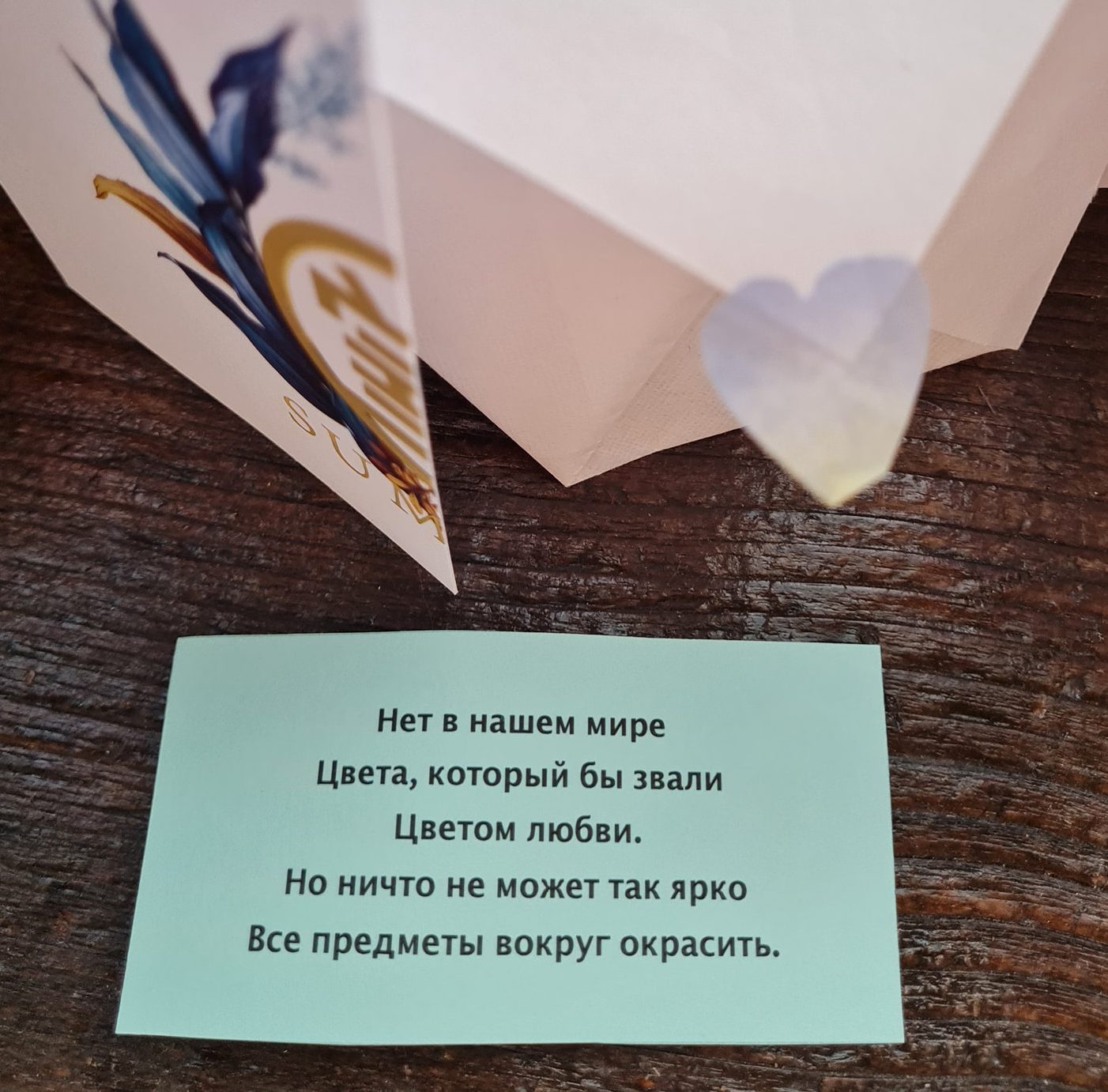Петя умер в ночь со вторника на среду.
В среду, в 6.50 я узнала об этом.
В субботу утром я поняла, что не помню ничего из того, что происходило со мной в пятницу.
В воскресенье я не помнила, что было в субботу. Ни слова.
Но все было как бы в порядке. Собаки были выгуляные и накормленные, телефон сообщал, что я по нему разговаривала с довольно многими людьми. О чем? Когда? Зачем? Я не могла ответить на эти вопросы.
Двое суток исчезли из моей жизни, полностью.
Тогда я решила записывать все, что со мной происходит, фиксировать, по часам, по дням, что я делаю, что я думаю, что я чувствую.
Во многом это, конечно, профессиональная деформация, я знаю, что смогу это использовать.
Мой главный и единственный инструмент для того, чтобы писать – это моя психика.
Через ее проявления, подчас дикие, я могу чувствовать то, что чувствуют другие, я могу соизмерить свою боль с их болью, наверное, это и называется эмпатией.
Это работает и в обратном направлении: любое, даже самое ужасное человеческое проявление, я примериваю к себе, я вставляю себя в эту чужую шкуру и анализирую: а я бы что? А я бы как в этих сапогах?
Я верю в то, что когда-нибудь смогу все это перечитать, и я верю, что мой опыт может помочь другим людям.
Так уже бывало с романами, которые я писала.
Почему просто не фиксировать каждый день, каждый час, каждую абсурдную мысль, которая приходит в мою голову, если в момент, когда я это делаю, я не рыдаю?
Ведь если так ощущаю я, значит, ощущают, ощутили или ощутят другие.
И им было, есть или будет также стыдно, страшно и горько, как мне.
И если я могу просто записать все, что со мной происходит, возможно, я помогу не только себе, но и другим людям?
Я начну со среды, которую отлично помню.
Меня разбудил Тиль, в каком-то бешеном восторге он лизал мое лицо, скакал вокруг кровати козлом и всем своим видом призывал меня к радости.
На телефоне, который я схватила, было 6 неотвеченных вызовов.
Я стала перезванивать. Было занято.
Какая-то часть меня сознавала, что это – конец, но какая-то этому сопротивлялась.
Я думала, что могло случиться чудо, что он преодолел кризис, сепсис, что все стало хорошо.
Не стало, в 6.50 я узнала, что он умер в 3.42.
И я встала, оделась и пошла гулять с Тилем.
Я смотрела на него и думала: неужели эта собака совсем глупа? Но я ведь знала, что нет.
В день, когда Петю перевели в реанимацию, он забился в его кабинет, и я не могла его выманить.
Он лежал, несчастный, потерянный, я плакала.
Он выл волчьим невыносимым воем несколько раз в ту неделю, когда Петю перевели под ивл, и это приводило меня в ужас.
Я его хватала, говорила, что все будет хорошо.
Он смотрел на меня, виновато прижав уши, замолкал, а потом уходил в коридор и опять выл. И все повторялось сначала.
Он плохо ел. Я стояла перед ним на коленях и умоляла жрать мясо, он не хотел.
Почему именно в то утро, когда его хозяин умер, он был так счастлив? Этот вопрос не давал мне покоя.
Тэффи тоже находилась в приподнятом настроении, они с Тилем после прогулки и жратвы носились, играя, по всей квартире, чего не делали, наверное, со времён Тилева щенячества, когда она ещё была к нему снисходительна.
Что они знали, что они поняли, чего не знала и не могла понять я?
Среда была моим первым свободным днём после ковидного карантина. Я посадила собак в машину, и мы поехали в деревню.
Тревожность, которая меня охватила в тот день, когда Петю забрали в больницу, уступила место какому-то отупению.
Я хорошо вожу машину, я не боюсь скорости, обгонов, но в тот день меня ничего не раздражало, мне не хотелось ехать быстрее всех, как мне обычно хочется.
Мне было насрать на камаз, который плелся передо мной со скоростью 80 км/ч, я плелась за ним, а потом он куда-то свернул.
И когда мы доехали, я думала, что не смогу войти в этот дом.
Дом, который он построил для меня, для нас, где лежат в спальне его вещи, где его инструменты, где его ботинки на веранде.
Собаки носились по участку, радостные от того, что у них случился супердень.
Мало того, что утром они ощутили облегчение, так теперь их ещё и в деревню привезли.
Облегчение.
Меня пронзила эта мысль.
Именно его собаки и почувствовали утром.
Они радовались тому, что страдания закончились, я это очень остро и четко осознала перед крыльцом нашего с Петей дома. Поэтому Тиль был в ажиотаже. Он знал. Откуда-то он знал.
Я вошла в наш дом, зашла в спальню: на кровати лежала Петина чёрная кофта с капюшоном.
Я легла на кровать, я легла ничком в эту кофту и вдыхала его запах. Это ложь, что вещи сохраняют запах людей.
Кофта пахла им очень отдаленно, почти незаметно, исчезающе.
Тогда я подумала, что я отдала бы все, я отдала бы все свои амбиции, все свои мечты, всю свою возможную будущую жизнь за то, чтобы он вернулся ко мне на год. За год жизни с ним я бы отдала все.
Тут же я подумала, что я много очень прошу, год. За месяц я бы отдала всю свою жизнь.
Потом я подумала, что нахуя мне такая жизнь, и я бы все отдала за день. За один единственный день с ним.
Но никто со мной не торговался, никто не предлагал мне сделку.
Я просмотрела сотни Петиных фотографий и наших общих фотографий, вывесила ту, где он мне особенно нравился.
Простилась с ним как бы.
Я всегда восхищалась его внешностью, а он мне говорил, что я – больная. Он был самым красивым мужчиной на свете, я часто ему это говорила: обожаю твой нос, обожаю твой профиль, обожаю линию твоего черепа, и он мне отвечал: ты просто извращенка.
Я покормила собак и легла спать.
За время, когда Петя был сначала просто в больнице, потом в реанимации, я сама болела ковидом, у меня выработалась привычка ложиться рано.
Я ложилась спать, убеждая себя, что завтра будут хорошие новости, завтра нужно только дождаться, а сейчас – просто заснуть. И это срабатывало.
Но в ночь, со среды на четверг дом неистовствовал, и я слышала его неистовство.
Деревянный дом никогда не молчит по ночам.
Он постанывает, он хрипит, скрипит, вздыхает.
Я привыкла к этим звукам, они меня не пугают, но в ту ночь дом себя превзошёл.
Что-то звенело на крыше, что-то стонало под окном, дождь, которого вроде и не было, бил по карнизу в спальне.
Собаки спали и храпели.
Я лежала в кровати и думала: они, что, больные? Почему они не вскидываются? Не лают? Что с ними не так?
В четверг утром я проснулась поздно, почти в 8.
Я оделась и выпустила собак. Мы пошли с ними гулять на Волгу.
Было очень тепло, солнце слепило, я шла по дороге, по которой мы сотни тысяч раз спускались к Волге с Петей, и улыбалась. Это была какая-то беспричинная, беззаконная радость, и собаки ее поддерживали.
Они подбегали ко мне, становились лапами, пачкали мне кто до чего мог дотянуться.
Над Волгой стояло яркое сияющее солнце. Волга сияла. Мне было так хорошо, так спокойно, так радостно, что я стала себя за это ненавидеть.
Как я могу улыбаться, если он умер?
Как я могу ощущать такое распирающее грудь счастье?
И, главное, от чего? От Волги? Солнца?
От этой разъебанной дороги, по которой до следующего лета никто не пройдёт? Что, блядь, со мной не так?
Мы вернулись домой, я покормила собак, и они легли спать перед балконным окном, на солнце.
Из Москвы я привезла себе бутерброд, который не смогла даже откусить.
Я и так-то не страдала лишним весом, а за время Петиной болезни превратилась в скелет.
Я выпила кофе.
После кофе наступило то же состояние, как, когда я вела машину и не хотела обгонять. Состояние сомнамбулы.
Я сидела в доме, перед балконным окном, перед солнцем, вместе с собаками. Только они спали, а я играла 3 часа в колбочки.
Раз 5 за эти три часа я начинала рыдать, рыдала, потом опять играла в колбочки. Мне все время приходили слова соболезнований и сочувствия.
Появилась странная закономерность.
Если я читала что-то вроде: держитесь, светлая память, сил вам – я начинала рыдать и рыдала минут 5-7, потом опять наступал покой.
Огромное солнечное пятно напротив двери балкона.
Когда я плакала, собаки просыпались, волновались, утешали меня, а потом опять ложились спать.
И так мы провели практически все утро четверга.
В 12 пришёл нанятый Петей рабочий, мы обсудили с ним, что ещё в этом доме надо сделать.
После этого разговора у меня появилось странное чувство предательства.
Я херила все Петины идеи в пользу примитива, в сторону того, что могу сама сделать.
Рольставни вместо отодвигающихся ставень на сварной конструкции, деревянная тупая лестница с площадкой на второй этаж вместо винтовой, которую он придумал.
Я не смогу воплотить его идеи, потому что для их воплощения нужен его мозг. Я смогу просто доделать то, что он не успел. И сделаю это настолько красиво, насколько мне позволяет единственный ресурс, который у меня есть – деньги.
Об этом я тоже думала, когда возвращалась в Москву, к детям.
Что мое счастье заключается в том, что у меня есть мой талант, мой ресурс, моя работа.
И я потеряла смысл своей жизни, но не жизнь.
Меня пугает будущее без любви, без любимого человека рядом, но не без денег.
Самые странные предложения, которые я получала в связи с его смертью, касались денег.
Мне предлагали деньги и даже присылали без моего на то разрешения.
Единственное, что я поняла, в день смерти мужчины, которого я любила, это то, что пиздец легче проживать с деньгами.
И увы, в этой жизни мы можем опереться на другого человека, но это ненадёжная конструкция, это временно, на это нельзя совсем рассчитывать, рассчитывать можно только на себя.
Anna Kozlova